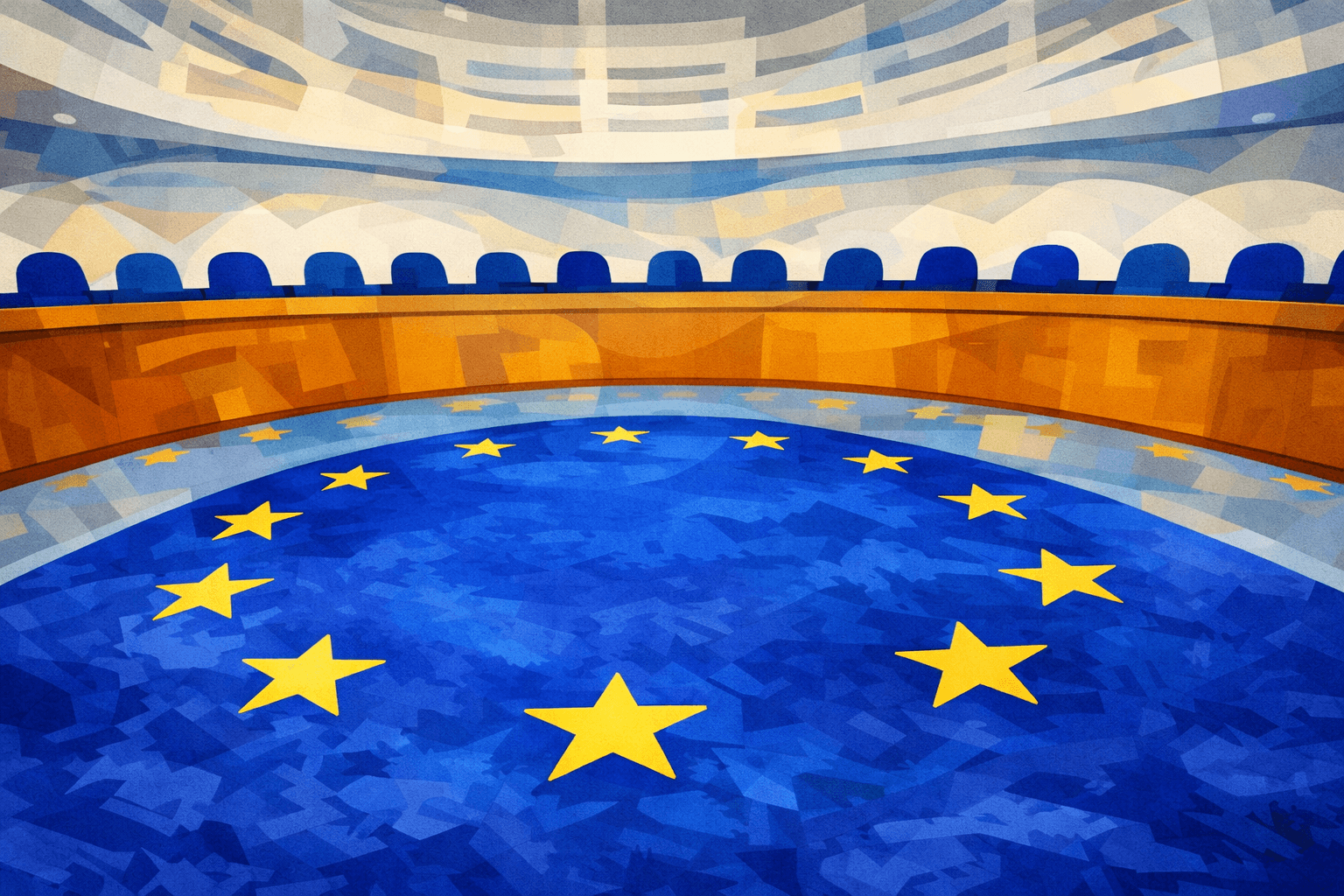31 янв 2023
«Я помогла сотням и тысячам людей». История Анны Каретниковой, проработавшей во ФСИН шесть лет
В январе 2023 года ведущий аналитик УФСИН России по Москве Анна Каретникова после отстранения от работы и угроз возбуждением уголовного дела была вынуждена покинуть Россию и уехать во Францию. В должности ведущего аналитика к тому моменту она проработала шесть лет. ЦЗПЧ «Мемориал» публикует рассказ Анны о правозащитной деятельности, работе во ФСИН, помощи заключённым и нападках со стороны Осечкина.

Правозащитная и политическая биография.
«Еженедельно я выходила в антивоенный пикет».
На протяжении всей своей осознанной жизни я последовательно придерживалась антивоенных, демократических и гуманистических взглядов.
После трагических событий в концертном зале «Дубровка» в 2002 году я и мои товарищи выступали с антивоенными инициативами и влились в ряды уже существовавшего антивоенного и правозащитного движения. Мы создали «Антивоенный Клуб», поддерживавший сайт, распространявший информацию о войне в Чеченской Республике. Организовывали и проводили митинги против войны и концерты известных музыкантов и поэтов, разделявших антивоенные убеждения. Еженедельно, по четвергам, я выходила в антивоенный пикет на Пушкинской площади, чтобы рассказывать москвичам о нашем несогласии с военными действиями и жестокими методами «усмирения» Чечни, о военных преступлениях и боевых потерях.
Также я стала членом Правозащитного центра «Мемориал» и впоследствии меня избрали в Совет Правозащитного центра.
Начало работы во ФСИН.
«Я посчитала правильным не оставлять без помощи и поддержки тысячи московских арестантов».
В 2008 году приняли закон об Общественном контроле в местах принудительного содержания. Я и Михаил Кригер (арестован, находится в СИЗО) стали членами первого созыва московской Общественной наблюдательной комиссии, что позволило нам посещать отделы полиции и после крупных задержаний на протестных акциях оказывать помощь задержанным активистам. Также мы получили возможность посещать изоляторы временного содержания и следственные изоляторы Москвы.
На протяжении трёх созывов (восьми лет) членства в ОНК я наблюдала, как полномочия наблюдателей сужаются, наиболее активные из них выдавливаются из комиссии, их места занимают люди, чья задача — имитация правозащиты. К четвертому созыву в его составе оставалось лишь несколько активных членов, к пятому — мне кажется, что тех, кто готов выполнять правозащитную функцию, не осталось вообще. При этом я являлась наиболее активным членом ОНК и готова была посвящать деятельности в тюрьме, изучению ее специфики наибольшее количество времени. Незадолго до окончания моего третьего срока деятельности в ОНК в женский следственный изолятор 6 прибыли представители руководства ФСИН. Их привлекли огромное количество негативных публикаций в СМИ, мои многочисленные жалобы и обращения. Руководство приехало, чтобы проверить, соответствуют ли все эти жалобы действительности.
Мы, наблюдатели, впервые лично заговорили об этом с руководством ФСИН, показывая им на месте, что происходит. Они были вынуждены признать нашу правоту и взять ситуацию под контроль. Так состоялось наше знакомство.
И чуть позднее я получила предложение от ФСИН перейти туда на работу, сохраняя тот же круг обязанностей, что был у меня в ОНК. После долгого обсуждения с коллегами по Правозащитному центру «Мемориал» я ответила согласием. В ситуации выдавливания из ОНК, а, значит, и из московских СИЗО реальных правозащитников я посчитала правильным не оставлять без помощи и поддержки тысячи московских арестантов, чьи проблемы и пути решения таковых я знала уже досконально и почти профессионально.
О слухах про работу в органах.
«Ни следователем, ни оперативником я никогда не работала».
В 16 лет, сменив обучение в специализированной языковой школе на вечернюю школу рабочей молодежи, я устроилась на работу в Кировский районный суд города Москвы машинисткой, а затем секретарём суда. Работа в судах несовершеннолетних на таких должностях с невысокой зарплатой была распространенной практикой. Я собиралась поступать обязательно на юридический факультет и обязательно в МГУ, а работа по профилю давала дополнительный балл при поступлении. Впрочем, экзамены я и так сдала неплохо и поступила на вечернее отделение.
В суде я проработала два года и там впервые узнала и написала в одной из своих ранних повестей, что способна делать с сотрудниками профессиональная деформация, лишая их элементарной эмпатии. В МГУ я выбрала своей специализацией криминалистику и уголовный процесс. Ни следователем, ни оперативником я никогда не работала, а лишь проходила преддипломную практику, как все студенты. Довольно длительный период я работала юристом в крупных издательских домах: «КоммерсантЪ», «Эксперт», «Время новостей». Затем я перешла на работу в «Мемориал», в программу «Горячие точки», вела переписку о похищениях людей с правоохранительными органами, посещала с ознакомительной, правозащитной и исследовательской целью Чечню и Ингушетию.
О том, был ли «договорняк» и коррупция.
«Мой переход на работу в Управление был абсолютно открытым и публичным».
Это было время, краткое, 2016-й год, когда казалось, что можно попытаться реформировать ФСИН. Озвучивались лозунги о стремлении к открытости, прозрачности, общественной дискуссии, привлечении виновных в пытках арестантов к ответственности, о гуманизации. Для того времени привлечение в систему правозащитника было, разумеется, странным, но оказалось не немыслимым. Когда теперь спрашивают: а не было ли в том коррупционной схемы — я улыбаюсь. Не вполне понятно, кто кого должен был коррумпировать для того, чтоб я продолжила посещать следственные изоляторы? ФСИН — «Мемориал»? Или Правозащитный центр «Мемориал» — ФСИН России? Или я их обоих вместе, или они вместе — меня? Какая была цель схемы, кто был выгодоприобретателем? Иными словами, кто кому, как говорится, заносил? Для устройства на работу в московское управление ФСИН я лишь перевезла туда из отдела кадров «Мемориала» свою трудовую книжку. Я не проходила проверок, я в жизни не видела ни одного генерала ФСБ, ни одного человека из таинственной Администрации Президента, с меня не требовали страшных клятв и не накладывали секретных обязательств.
Мой переход на работу в Управление был абсолютно открытым и публичным, я дала множество интервью журналистам, объясняя причину своего поступка. Я несчитаю правильным бросить людей, арестантов, которые мне доверились, считаю правильным бороться за изменения в системе личными усилиями.
«Система не могла меня не отторгнуть».
Могла ли правозащитница работать во ФСИН?
Отвечая на вопрос «не может ли система принять правозащитника», она показала, что может. Но временно. Второй вопрос: может ли правозащитник существовать в системе? Ответ: да, но тоже временно. Если она не заставляет его отрекаться от своих убеждений, пока она обладает минимальной слышимостью и готовностью хоть чуть-чуть, но меняться к лучшему.
О гласности и прозрачности система говорила недолго, с моего перехода туда на работу сменилось три команды, и каждая всё меньше понимала, почему в московском управлении работает правозащитник, который позволяет себе своё мнение, пусть и в пределах Москвы, но позволяет себе критику решений государственных органов. После начала войны, когда стремление к секретности и абсолютной непрозрачности стало почти маниакальным, система не могла меня не отторгнуть. Это несмотря на то, что моя полезность на месте в части решения нерешаемых вопросов, знания различных аспектов взаимодействия служб внутри СИЗО, умения предложить оптимальное решение сомнению не подвергалась. И я продержалась еще почти год, хоть эмоционально это становилось всё тяжелей.

Был ли доступ к документам с грифом секретности?
Никакого допуска к секретным материалам и документам у меня не было. Что касается документов и нормативных актов с грифом «для служебного пользования» — так они потому и для служебного, что с ними надо работать на службе. И то, что я писала начальнику, было ДСП (для служебного пользования), но не потому, что там содержалось что-то секретное, а потому что писала я это в связи с работой. Я не являлась аттестованным сотрудником и не носила погоны.
Я не имела никакого отношения к организационно-аналитическому отделу. Моя должность называлась «ведущий аналитик» УФСИН России по городу Москве, она находилась в прямом подчинении начальника территориального органа — Управления, ранее её не существовало, под меня она и вводилась, под меня и прописывались положения должностной инструкции. Что в ней было?
- Ежедневный обход камер
- Получение и проверка устных и письменных жалоб от следственно-арестованных и осуждённых
- Проверка условий содержания, бытового обеспечения, медицинского обслуживания
- Контроль ведения медицинского приема, проверка и контроль качества и количества питания
- Контроль проведения количественного просчета
- Работы воспитательного отдела (библиотека, выводы в религиозные учреждения, доверенности, характеристики)
- Помощь осужденным из отрядов хозяйственного обслуживания
- Правовое консультирование и еще очень много всякого.
Как средство реагирования — самостоятельное устранение недостатков при наличии такой возможности.
Меня всегда, кроме времени содержания на казарме в период коронавируса, сопровождал офицер СИЗО, вместе с которым мы пытались решить те вопросы, что были в наших силах. Он же составлял по итогам посещения рапорт на имя начальника СИЗО, куда вносились все без исключения обращения арестантов, и были их в одном таком рапорте десятки, а то и сотни. В случае, если недостатки не устранялись по результатам нашего общения с начальником СИЗО, острейшие или сложнейшие из них доводились мной до начальника УФСИН, генерала Мороза. Как правило, в не терпящих отлагательства случаях меры принимались немедленно. А по системным вопросам я, в соответствии с должностной инструкцией, писала на имя руководителя служебные, докладные или аналитические записки со своими предложениями о том, как и что может быть исправлено, изменено, усовершенствовано.
Кроме того, я анализировала для руководства новое в законодательстве, плюсы, минусы, подводные камни, пути внедрения новаций. Никакое написание бравурно-гламурных отчетов для кого бы то ни было моей должностной инструкцией не предусматривалось и от меня не требовалось. Моим делом было помогать людям выжить и осуществить предусмотренные законом права. И на первом месте, конечно, для меня стояли их здоровье и безопасность. И это же было теми главными моментами, из-за которых приходилось конфликтовать и с медицинскими частями, и, разумеется, с оперативными отделами.
«Моя зарплата в последние годы составляла около 17 тысяч рублей».
Про форму, статус и зарплату.
В период работы в УФСИН я носила либо гражданскую одежду, либо форму сотрудника УФСИН — офисную или камуфлированную. На них была соответствующая символика: без погон, но с нашивками УФСИН на рукавах (их ошибочно называют шевронами), наименованием службы, моими фамилией и именем. Мне так хотелось ввести практику, чтоб нашивки с ФИО или хотя бы номером были у каждого сотрудника СИЗО, чтоб арестанты в случае жалобы могли знать, кто именно нарушил их права! Обычные гражданские сотрудники форменную одежду не носят, но на то у меня был ряд причин. И самая простая, но насущная из них: у меня просто почти не было другой одежды.
В месяц моя зарплата в последние годы составляла около 17 тысяч рублей. Были мэрские доплаты, небольшая доплата за выслугу, ежеквартальные премии, но в целом всё это крутилось возле прожиточного минимума, любая покупка пробивала серьезную брешь в моём бюджете.
Мне предложили носить форму, получив ее на складе, на что я, подумав, согласилась. Я увидела в этом определенные плюсы. Работая бок о бок с другими сотрудниками, пытаясь склонить их на сторону добра, мне следовало быть более похожей на них, разделять их тяготы и понимать их проблемы. В этом форма мне помогла. Была здесь и еще одна идея, направленная не столько на арестантов, сколько на внешнего наблюдателя.
Сотрудники — очень разные: злые и добрые, разумные и не очень. Мне хотелось донести до тех, кто читал мои блоги, что не форма красит человека, а человек форму, что нельзя мазать черной краской огульно всех, кто работает в УИС: это не улучшает людей, а озлобляет, увеличивая раскол в обществе.
По поводу шарфа, отмеченного кем-то на фотографиях, недоброжелателями был сделан вывод, что немало я, видать, наворовала, что ношу платок известного бренда. Этот шарф был приобретен за тысячу рублей в Москве на Дубровском рынке. Там еще много таких, есть возможность приобрести совершенно без всякой коррупции.
«Мои полномочия распространялись лишь на московские СИЗО».
Можно ли было повлиять на условия в других изоляторах?
Я не посещала СИЗО федерального подчинения — «Лефортово» и СИЗО-1 ФСИН России («Кремлевский централ»). Я не посещала спецблоки московских СИЗО, так как для их посещения почти невозможно было получить разрешение оперуправления УФСИН. Таково было решение оперуправления ФСИН России, вечно за мной следившего и опасавшегося моей излишней осведомленности. Однако на спецблоки могли ходить члены Общественной наблюдательной комиссии, чем я и пользовалась при необходимости.
Также я никогда не посещала никаких учреждений в других регионах. Любые упоминания о том, что кто-то меня там видел при каких-либо обстоятельствах, являются либо ошибкой, либо ложью. Мои полномочия распространялись лишь на московские СИЗО.
Было лишь одно исключение: когда руководство ФСИН направило меня и офицера, который временно исполнял функции моего помощника, с проверкой в ИК-3 Смоленской области. Результаты проверки ошеломили нас с коллегой: даже в сравнении с московским «хозяйством», где мы знали множество недостатков и огрехов, в не такой уж и далекой колонии царил абсолютный бардак. Мы задавали те или иные вопросы — и слышали в ответ абсурдные ответы. Мы прибыли в конце ноября, на улице стоял почти мороз, а в бараках отсутствовали батареи отопления. На выражение нами недоумения руководство попыталось продемонстрировать собственноручные заявления осужденных, что им и без батарей очень даже тепло, на выражение нами негодования — через некоторое время мы увидели, как в бараки тащат бутафорские радиаторы.
Мы получили десятки жалоб осужденных, по результатам нашей проверки лица, ответственные за множество нарушений, были наказаны. Не знаю, какое впечатление произвел на руководство ФСИН наш возмущенный отчет, но больше в регионы нас не посылали.
«Обещать обеспечить безопасность крайне сложно».
О пытках в системе.
Я не могла не знать о пытках в системе, моё категорическое неприятие подобного и стало одной из причин, по которым я сначала пришла в ОНК, а затем и в УФСИН. И я должна отметить, что моя большая заслуга (но не только моя), что в период моей работы физических пыток на вверенном мне участке практически не было. Грань тонка — есть психологические страдания, которые можно и нужно минимизировать, и я делала это. Есть тяжелые и не соответствующие закону условия содержания, и мы пытались этому противостоять. Есть конфликты в камерах, порой приводящие к физическому насилию, но именно физических пыток в целях выбивания денег либо признательных показаний — в Москве не практиковалось.
Однако мне часто приходилось слышать от арестантов о пыточных условиях содержания в некоторых регионах. Чаще всего упоминалась Владимирская область, а в последнее время — избиения в Кемеровской области. Я получала устные и письменные обращения для их передачи правозащитникам и во ФСИН России. Формально, будучи сотрудником лишь московского Управления, помочь я в таких случаях не могла. Однако обращения передавала тем, кто мог каким-либо образом влиять на ситуацию. Несколько раз я получала письма с благодарностью от осужденных, которые не были направлены в те регионы, где их безопасность была под угрозой, хоть я и не могла дать никаких обещаний, а лишь попытаться помогать.
Обещать обеспечить безопасность крайне сложно. Как выяснилось, во многих случаях ни огласка, ни публикации в СМИ не становятся её гарантией. Для этого необходимо быть рядом и постоянно мониторить ситуацию. Люди обращаются за помощью, на них заводят новые уголовные дела за ложный донос и дают новые сроки. Но я всегда рассказывала о пытках, а не скрывала их.
Впрочем, мне писали и говорили осужденные, что моё имя в регионах известно. Случалось, что одно упоминание того, что осужденный знаком со мной, может мне позвонить, и я держу ситуацию на контроле, становилось гарантией от произвола администрации.
Почему я демонстративно не ушла в отставку в ответ на те или иные действия ФСИН и российских властей?
Потому что моя демонстративная отставка никак не повлияла бы на происходящее, лучше бы не стало, а мои подопечные арестанты московских СИЗО лишились бы помощи и поддержки чуть раньше, чем это произошло сейчас. Ради хорошего пиара бросить доверившихся мне людей я не была готова, я не предатель. Были моменты, когда я думала о таком варианте: задержание и арест Алексея Навального, начало войны. Я взвесила все плюсы и минусы — и решила продолжать работу. Я не жалею об этом: я помогла сотням и тысячам людей.
О «вип-камерамах» Золотова.
Владимир Осечкин по каким-то причинам считает себя первооткрывателем истории с «вип-камерами». Но об этом написал вовсе не Осечкин. Произведшую фурор статью о Золотове и его камере написала Ева Меркачева, а разбирались в этом мы с ней вдвоём. Сам термин «вип-камера» стали использовать именно после этой статьи.
Золотов, известный своим умением коррумпировать всех, кого только можно, воспользовался своими навыками. Он получил от администрации СИЗО привилегии, за свой счёт отремонтировал пятый этаж второго режимного корпуса. При этом две камеры действительно выглядели как номера в неплохой гостинице.
Когда Меркачева привлекла к этому внимание, наметилась проверка. Из-за страха, что придёт директор и задаст вопросы, все излишества стали отламывать, разломали подвесной унитаз. При этом Ева Меркачева писала не о том, что плохо иметь хорошо отремонтированные камеры. Она сравнивала камеру Золотова с помещениями, где вообще невозможно находиться, например, в третьем режимном корпусе.
Все виновные в истории Золотова понесли наказание, начальника сменили. И это правильно.
«Ни одну грамоту именно как сотрудник я так и не получила».
О подарках и грамотах.
Грамоты вручаются сотрудникам (и аттестованным, и неаттестованным) время от времени. Не за какие-то даже достижения, а потому что надо как-то поощрять сотрудников, а денег на это выделяется немного. Можно повесить на стену: пустячок, а приятно. Практически у всех офицеров в кабинете такие висят. Что досадно — несмотря на кучу решённых проблем и устных благодарностей, ни одну грамоту именно как сотрудник я так и не получила, кроме той, что от моего начальника, на пятидесятилетний юбилей. К ней прилагалась роза. Ещё пара грамот он начальников СИЗО, которые с пониманием относились к моей работе.
Все «подарки», а именно: две грамоты и одна благодарность от директора ФСИН, одна благодарность, одна медаль за содействие УИС и одни сувенирные часы я получила в качестве члена Общественного Совета при ФСИН России. В этом мертворожденном органе на каждом заседании почтенным членам совета дарили подарки. Это могли быть какие-то бытовые приборы, даже телевизоры, кофемашины. Мне ничего такого, кроме вышеперечисленного не досталось, но вот об этом как раз я совершенно не сожалею.
Привезла ли я секретный видеоархив?
Я не привезла «секретного видеоархива», поскольку у меня, во-первых, не было доступа к каким-либо секретным материалам. Конечно же, у меня есть с собой определенный архив, который, возможно, пригодится для дальнейшего осмысления сделанного и продолжения моей работы. Там фото, видео, мои аналитические записки. Будем разбираться, когда дойдут руки.
О благотворительности, очках и ручках.
К сожалению, система не способна выдавать заключенным даже того минимума, который предусмотрен действующим законодательством. Все обращения и заявления в СИЗО требуют подавать в письменном виде, хоть это не соответствует закону. При этом ручки и бумага для заявлений не выдают. Не выдают нитки, швейные иглы: на всё это просто не выделяют средств. Если арестант оказался в изоляторе без очков, он не может не только читать книги, он не может даже ознакомиться со своим постановлением об аресте. Нет книг на иностранных языках, нет словарей и разговорников для иностранцев. Нет сигарет, которые можно хотя бы по одной выдать людям, которые находятся в жутком стрессе. Ранее судимые часто режут себе руки, чтоб выпросить у оперативников хоть одну сигарету.
Всё это я — сначала в ОНК — приобретала за свои деньги. А работая в УФСИН, стала собирать в социальных сетях в порядке благотворительности. Люди привозили ручки, бумагу, книги, дешёвые сигареты и прочее в офис «Мемориала» на Каретном. Таким же образом мы существенно пополнили тюремные библиотеки. Привозили ношеную одежду, обувь — для бедолаг, которым не в чем было гулять и выезжать на судебные заседания. Привозили батарейки и кипятильники. Всё это впоследствии было поставлено руководством мне в вину, хоть целью было — соблюсти закон и обеспечить нуждающихся необходимым.
О причинах смертности в СИЗО и проблемах с медициной.
Основными причинами смертей в московских СИЗО являются смерти от болезней, суициды, передозировки наркотиков и иногда убийства сокамерниками. В 2022 году было около 30 смертей, эту цифру я озвучила журналистке Еве Меркачевой, и это, как мне кажется, несколько больше, чем за прошлые годы.
Оказание медицинской помощи в СИЗО, конечно, очень хромает. Но умирают не всегда от неоказания медпомощи: под стражу берут и очень тяжело больных людей. К нам привозили людей с онкологией, с критической стадией ВИЧ, с циррозами. Что-то нам удалось улучшить. Если во всех изоляторах есть ставки терапевта и стоматолога, то других специалистов может в СИЗО не быть. Где-то есть хирург, где-то — дерматолог. А где-то нет никого, как, например в 12 изоляторе. Мы придумали схему, по которой раз в два месяца специалисты всех направлений ездили по изоляторам и принимали заключённых.
А вот лекарств — просто нет. На них не выделяется достаточное количество денег. Всё из-за аукционной системы. Мы говорим: «Мы хотим купить у вас аспирин за две копейки и выйти с этим на аукцион». Затем мы, естественно, аукцион проиграем, поднимаем цену, назначаем следующий аукцион и покупаем аспирин. Но пока это происходит, люди полгода сидят без аспирина. Это очень большая проблема. А сейчас стало ещё хуже. В прошлом году обеспечение лекарствами было в три раза меньше, чем в позапрошлом.
Почему я вынуждена была уехать?
С новыми веяниями во ФСИН России, в особенности — с начала войны, ФСИН стала относиться ко мне более недоверчиво. Меня неоднократно вызывали для опросов в ОСБ, в том числе интересовались, были ли у меня задержания (на что я честно ответила, что были), не собираюсь ли я на акции протеста. Сотрудники иногда предупреждали меня, что их заставляют за мной следить и докладывать о моих действиях, чтоб я была осторожней в простейших вещах: например, дать тетрадку арестанту.
Где-то около полугода назад специальным указанием оперуправления ФСИН была запрещена моя книга «Маршрут», изданная при поддержке «Мемориала», которая ранее свободно выдавалась из библиотек и пользовалась очень большой популярностью у арестантов. Книгу изъяли из библиотек, также у арестантов потребовали ее выдать, проводили обыски в камерах. Некоторые арестанты рассказывали, что книгу рвали прямо в коридорах, но это — редкий случай. Полностью тираж изъять не удалось, следственно-арестованные продолжали передавать «Маршрут» друг другу и гордо рассказывали мне, что им удалось её прочесть и они благодарны за книгу.
Становилось понятным, что пути системы и мой в скором времени могут кардинально разойтись, но я не хотела об этом думать и продолжала работать, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что моя деятельность не нравится «наверху». Однако 10 января из руководства УФСИН мне было доведено, что моими действиями и публикациями крайне недовольны «серьезные люди» на «самом верху». Что меня ждет череда серьезных объяснений, опросов и допросов в ОСБ, прокуратуре и, возможно, ФСБ, и чтобы я была готова к большим неприятностям. Это была условная фраза: когда-то давно я просила меня предупредить, когда дело станет совсем плохо. Мне пообещали.
На следующий день меня действительно вызвали в отдел собственной безопасности. Там я провела несколько часов, отвечая на вопросы о том, что я приносила в следственные изоляторы сотрудникам для передачи следственно-арестованным и на каком основании я веду блог в интернете. По смыслу беседы я поняла, что мне пытаются инкриминировать превышение должностных полномочий, сформулированных в моей должностной инструкции. Также меня попросили сдать носимый видеорегистратор, который находился при мне, в том числе обеспечивая мою безопасность на протяжении нескольких лет.
На следующий день меня вызвали в органалитический отдел и попросили подписать должностную инструкцию задним числом. Это подтвердило мои догадки относительно возможного инкриминируемого мне правонарушения или преступления.
Тем не менее, я поехала на работу, в СИЗО-1, но туда меня уже не пустили, пояснив на КПП, что это — приказ начальника СИЗО. Я отправила начальнику УФСИН сообщение с вопросом, что я должна делать, коль скоро меня отстранили от работы, но не стала ожидать ответа: всё было слишком понятно. От работы у нас просто так не отстраняют, и я была признательна за такое радикальное предупреждение.
Когда пришел ответ, что мне следует прибыть в Управление для обсуждения, мною уже было принято решение об отъезде. Сын и подруга помогли мне быстро собрать вещи и совершить необходимые правовые процедуры, вечером я села в поезд в Беларусь.
Как я смогла уехать и «выгнала» ли я кого-либо из очереди уезжающих?
Когда начали сгущаться тучи, я размышляла, следует ли мне сесть в тюрьму, либо покинуть страну, если дело станет совсем плохо. Летом я получила загранпаспорт и обратилась к моим товарищам в «Мемориале» с просьбой о визе. Визу я получила в сентябре, без какой-либо специальной срочности. Получив визу, я продолжала работать. Никаких вопросов ко мне на работе по поводу получения визы не было.
За что меня не любит Владимир Осечкин и почему я не собираюсь полемизировать с ним на его канале?
Владимир Осечкин, на мой взгляд, не любит не меня, а вообще никого из правозащитников, кроме себя, поскольку иные правозащитники представляются ему не коллегами и товарищами, а конкурентами. Редко кого из правозащитников он не обругал, не пытался скомпрометировать, не обвинил в работе на ФСБ. По мнению Владимира, скорей всего, в мире должен быть лишь один правозащитник, по крайней мере, в тюремной теме, — и это Владимир Осечкин.
Но подозреваю, что в его отношении ко мне есть еще одна важная составляющая: моё отношение к «страхованию заключенных», которое продвигал Владимир, как к сугубо мошеннической схеме, не способной каким-либо образом защитить арестантов. Страховой случай в местах лишения свободы при сегодняшнем состоянии пенитенциарной системы недоказуем, и об этом не мог не знать Владимир Осечкин, который ранее сам отбывал наказание и в настоящее время декларирует свою погруженность в тюремную тему.
Через людей, ранее близких сайту Gulagu.net, а затем пришедших в ОНК, Владимир выразил свое недовольство и пожелание сменить мои акценты. Однако этого я делать не стала.
Разгневанный Владимир вместе со своими товарищами по сайту завалили ФСИН доносами на меня, которые сумели даже ОСБ УФСИН и инспекцию по личному составу удивить своей бредовостью. То я невежливо разговаривала с ними в интернете, то я (внимание!) оскорбила директора ФСИН Калашникова! Вот это всё, что я порочу светлый образ сотрудника ФСИН, так называемые «правозащитники» слали во ФСИН России.
Поскольку на каждое обращение система должна ответить, то сначала меня вызывали, опрашивали, и им направляли формальные ответы, что со мной проведена беседа, работа, или что факты не подтвердились. Но затем опрашивать меня по глупым поводам устал даже ОСБ, и меня перестали туда вызывать. Сами что-то писали, без меня.
После получения каждого ответа, что со мной проводилась работа, Осечкин писал мне в Whatsapp, что теперь-то рассчитывает на наше плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Выглядело это неприятно, как глупая попытка шантажа. Я ему ничего не отвечала. Но я думаю, что речь шла не о том, чтобы я попыталась украсть для Осечкина секретный архив. Я думаю, что речь шла по-прежнему об изменении моей позиции по страхованию арестантов, которую я продолжала высказывать в СИЗО.
«Требуем провести проверку Каретниковой, которая коррупционно получила от арестантки драгоценность»
Из всех написанных на меня осечкинским окружением во ФСИН доносов неприятно запомнился один. В благодарность мне за помощь арестанты иногда пытались отплатить чем-нибудь приятным: рисунком, какой-нибудь поделкой, вроде бумажного цветочка. И одна молодая и очень больная девушка, которая пять лет сидела в шестом следственном изоляторе (я помогала ей с лечением) однажды подарила мне браслетик, который сделала сама из того, что нашлось в камере — нитки с блестящей пуговичкой. И я написала в блоге, что мне подарили настоящую драгоценность, что этот подарок очень ценен для меня.
Немедленно на меня был написал донос: требуем провести проверку Каретниковой, которая коррупционно получила от арестантки драгоценность. Тогда ОСБ ещё как-то реагировал на поток бумаг от Gulagu.net. И вот к этой несчастной девушке приехали сотрудники ОСБ, она встретила меня в слезах и рассказала, что они вывели ее из камеры и мучили несколько часов, уговаривали признаться в том, что я вымогала у нее ценности или деньги, она плакала, но они продолжали ее мучить.
Тогда мне было очень неприятно: Осечкин и его коллеги по сайту могут не любить меня и воевать со мной, но они причинили боль девчонке, которая совершенно этого не заслужила. И это был очень некрасивый поступок.
Выступать, полемизируя с Осечкиным на его канале, я не собираюсь, поскольку потоки абсурдной клеветы, вылитые на меня Осечкиным, а также оскорбления и даже угрозы убийством мне и моему сыну, которые инспирировал и которым потворствует Осечкин на своем сайте, не способствуют доброжелательному диалогу. Так на дебаты не приглашают. На вопросы я отвечаю и буду отвечать тем, кто хочет слышать ответы, но не тем, чьи привычные методы — шантаж, клевета, оскорбления и угрозы.
В любом случае, у нас с Владимиром Осечкиным очень разный правозащитный бэкграунд, пусть в настоящее время он и занят достаточно полезным делом, выступая против войны и против насилия в местах лишения свободы. Пока мы выходили на улицы под дубинки ОМОНа, требуя демократических преобразований, Осечкин полагал Крым территорией России. Когда еще теплилась надежда сохранить в России правозащитные организации с многолетней историей, Осечкин выступал за принятие закона об «иностранных агентах». Когда политзаключенных уже начали бросать в тюрьмы, Осечкин выходил на митинг «антимайдана», требуя убрать протестующих с улиц.
Если я правильно понимаю хронологию, в том же году он уехал во Францию, радикально переменив свою точку зрения, чему наверняка способствовал целительный французский воздух. Но верить в то, что он искренен, в силу перечисленных выше обстоятельств, я не могу